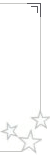Всю ночь кто-то трудился над морем. Шумно, смешивая воду и ветер, перенося волны — какое бурное движение мерцающих огней! — с места на место; море куда-то плыло в темноте, звучно, торжественно и мощно. Наш кусок суши не больше корабля, и ночное воображение без усилий творит легенды о бродячих островах, покорных благородной воле океана. Классические Сицилия, Крит или такие острова-континенты, как Австралия, менее убедительны в роли острова, чем любой из Сиесов, которые питают романтические мечты, всегда живущие в нас. Сиесы можно обойти за несколько часов и вспахать за один день; человеческий глаз охватывает их целиком, замечая, как малы эти непокорные скалы, уставшие от борьбы с морем. Будь они чуть меньше, вы увидели бы лишь голые камни, убогий приют чаек и бакланов. Но Сиесы достаточно велики, чтобы их можно было назвать землей; а обнаружив на здешних песчаниках посадки картофеля, сахарный тростник в узкой лощине, потаенный источник с вкусной ключевой водой и грациозное крылатое существо в кустах ежевики, вы окончательно понимаете, что это действительно суша, уцелевшая в древней морской катастрофе, дабы человеку было где разжечь очаг. Ибо Сиесы приютили несколько человек. Мелвилл, Стивенсон, Дефо, вечные поиски Итаки, которые разделяет с Одиссеем каждым смертный, — не они ли присутствуют во всем, что мы делаем, говорим и думаем на островах?
Время растягивается под солнцем и ветром, в морском безмолвии дни и ночи долго не кончаются. Можно подумать, что здесь сохранились древние часы, которые были человечнее и спокойнее наших. Ночь идет сюда по морю, наугад, и волны тьмы постепенно смешиваются с океанскими волнами. Последние coruxos, рыбаки из Корухо — хозяева рыбообильного моря, как сказал бы Гомер, — час назад улетели прочь на своих белых парусах. В руке у меня бокал с вином, кажется, что можно упереться лбом в темноту и ветер, а вино, которое я собираюсь выпить, представляется мне загадочным плодом, украденным в неких изобильных краях, чтобы душе было легче выносить ночное одиночество. И не дрожит ли вино во мраке, как дрожит пламя свечи? Не сродни ли они друг другу? Ночью мы читаем стихи вслух, как будто хотим, чтобы их услышало море; однако смысл и музыка слов тают у огня, горящего в очаге и в лампе. И я думаю, что здесь именно пламя, а не слова, делают нас людьми. Огонь — наше сокровище, и если сюда явится Одиссей, он протянет руки к теплу, а не к блесткам мудрости.
Ночью море подходит так близко, что лижет подушку и разбивается о мой сон. Вода убаюкивает тебя смутными повторяющимися воспоминаниями, и из глубины сна ты следишь за их бесконечным клубком. Возможно, ты и преувеличиваешь — Виго в часе плавания отсюда, и если открыть глаза, то его огни задрожат на воде. Но что-то не дает тебе покоя, гложет тебя, присутствует в твоих опасениях и снах; это всего лишь одно слово, вопрос. Может быть, даже и не вопрос, а голос, который все медленнее и медленнее произносит тебе на ухо: далеко, далеко, далеко… У Малларме есть две чудесные строчки: «Я знаю, что есть птицы, опьяненные жизнью между загадочной пеной и небесами». Господи, неужели этот остров, эти скалы — мои крылья?
Рассвет быстро, allegro, захватывает небо, ветер, море. Услышав ночью, как Господь трудился над океаном, мы теперь видим, как Он творит утро. Время от времени Его руки опускаются вниз, устилая волны холодным зеленым туманом. По мере того как светает, ты обнаруживаешь вблизи берега, узнаешь раскрытую ладонь бухты и понимаешь, что ночью не двигался с места; а ведь была надежда проснуться далеко отсюда, в открытом море, ощутив свободу и твердость духа. Появляются и утренние чайки; одиночество бежит прочь, море становится меньше, и в волнах, которые ерошит норд-ост, в венчающей их беззаботной пене тебе слышатся песни Мартина Кодакса. Скорей к источнику, бьющему в тростнике, к его холодным, но ласковым струям! Услышав птичку, щебечущую на ветке ивы, я останавливаюсь и с удивлением замечаю, что все время бормочу один и тот же стих:
Земля каждый день обретает меня…
Это Франц Верфель. Почему он не сказал: «Я обретаю землю…»? Опершись рукой на камень, из которого струится вода, я вспоминаю того, кто ударил библейским жезлом в скалу, чтобы дать воду бредущему по пустыне народу.
— Как бы мне хотелось услышать сейчас колокол, — говорю я Хосе Марии Кастровьехо. — Надо привезти сюда колокол, маленький сигнальный колокол из Аргентины: будет кому приветствовать утреннюю зарю.
Огонь, источник, колокол… Бронзовый голос, умеющий вовремя произнести: «Благословенны заря и посылающий ее Господь!» Колоколу, наверное, нравится слушать море и человека.